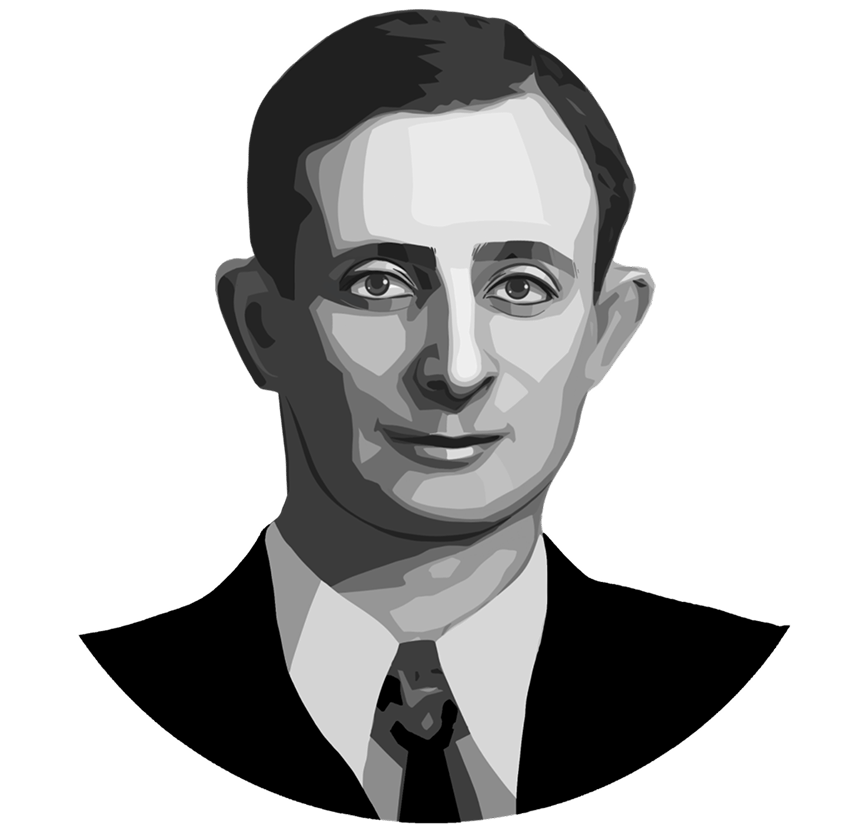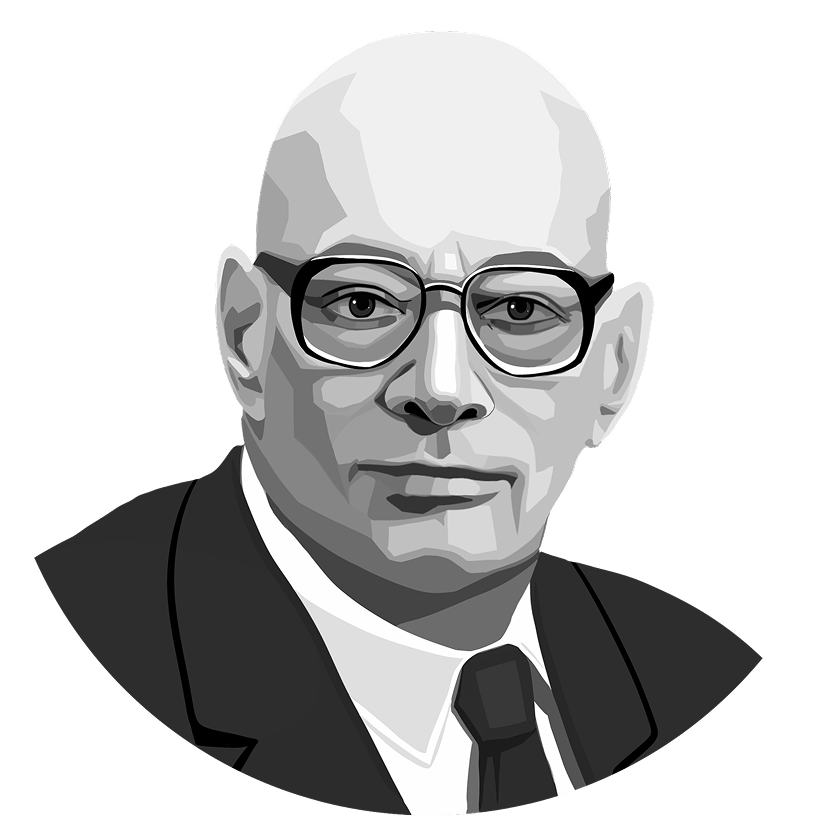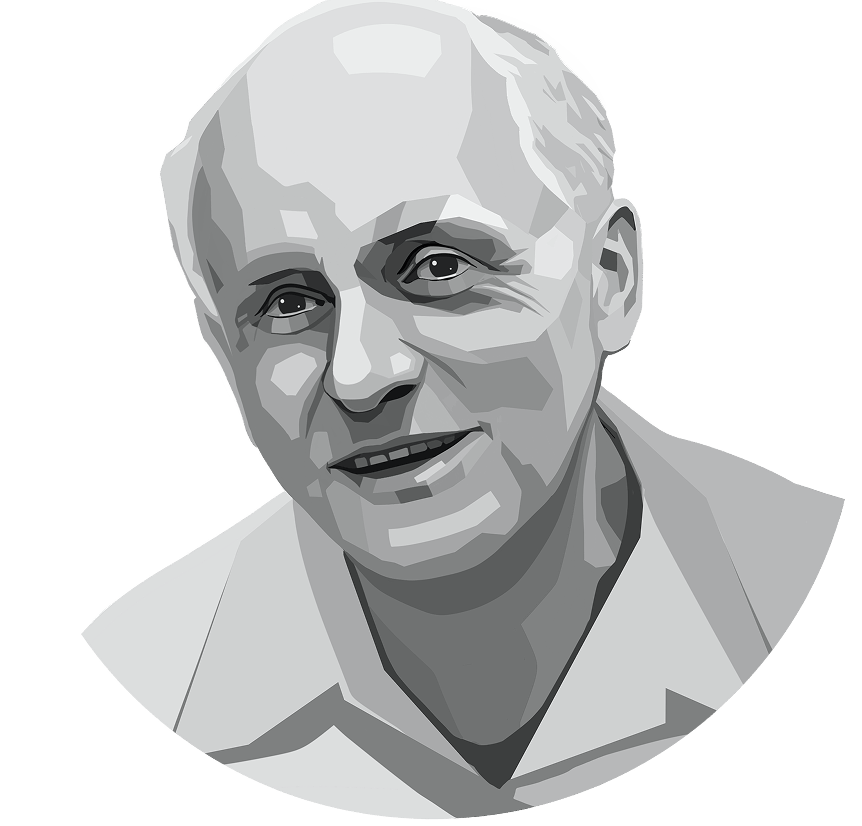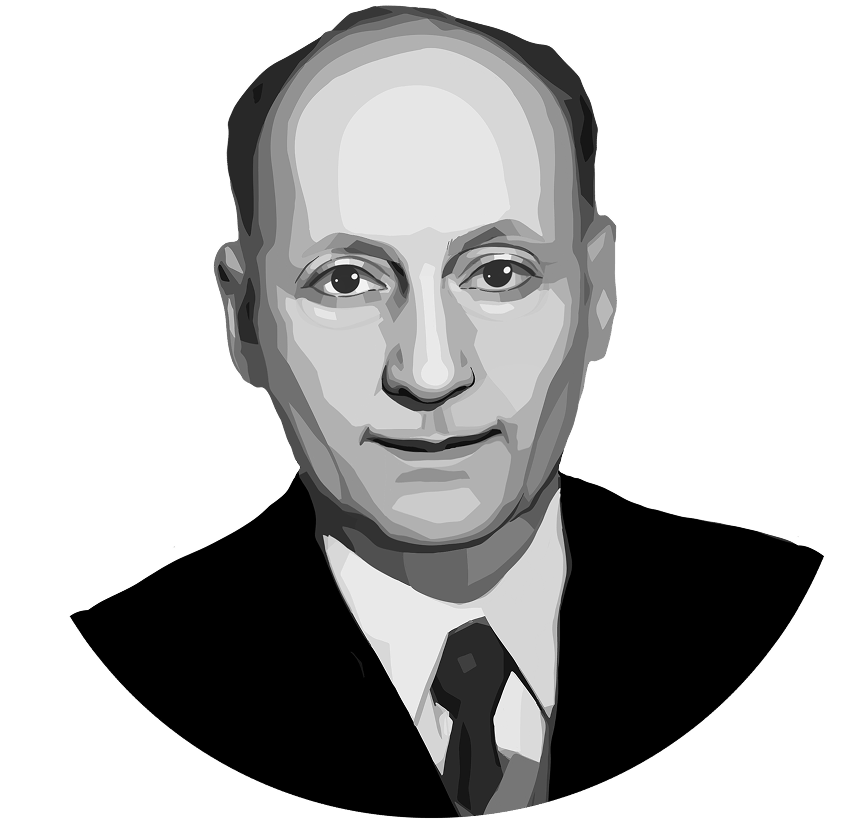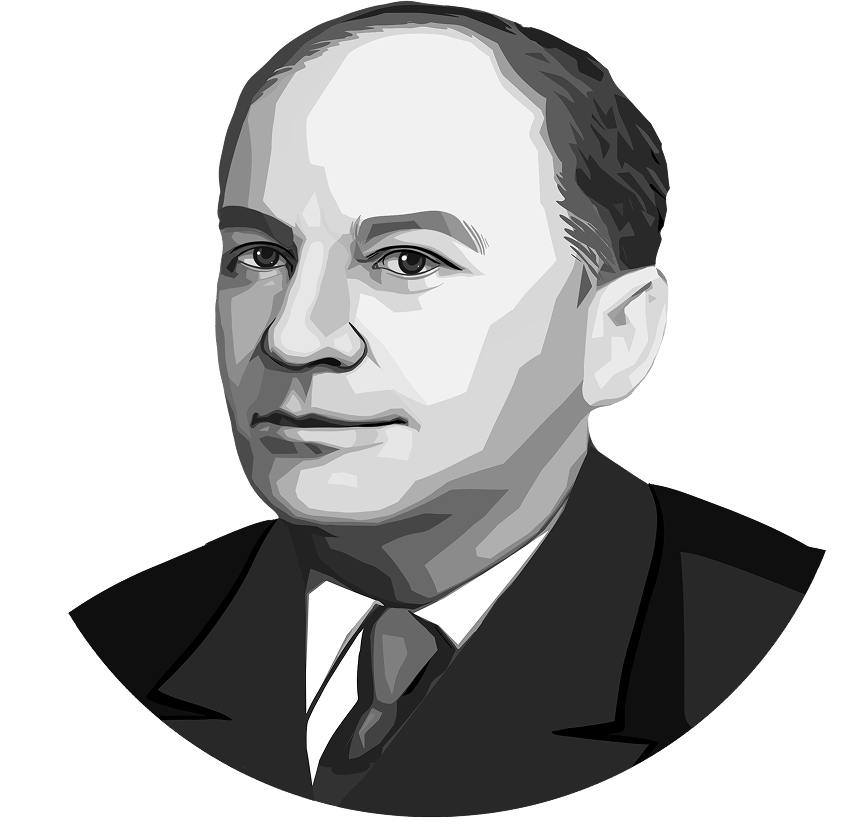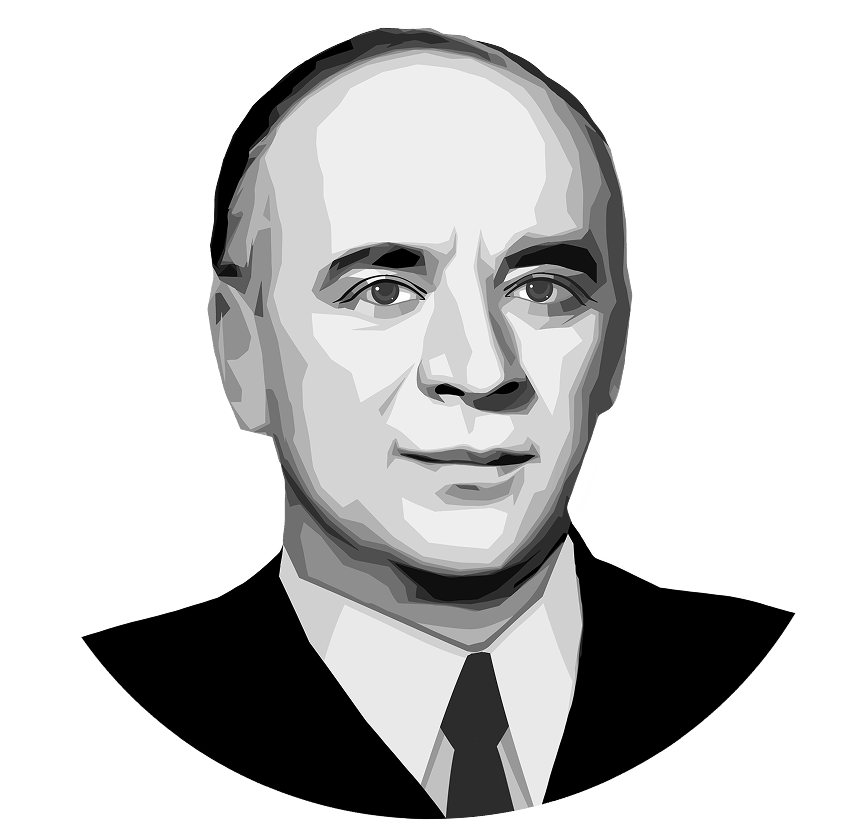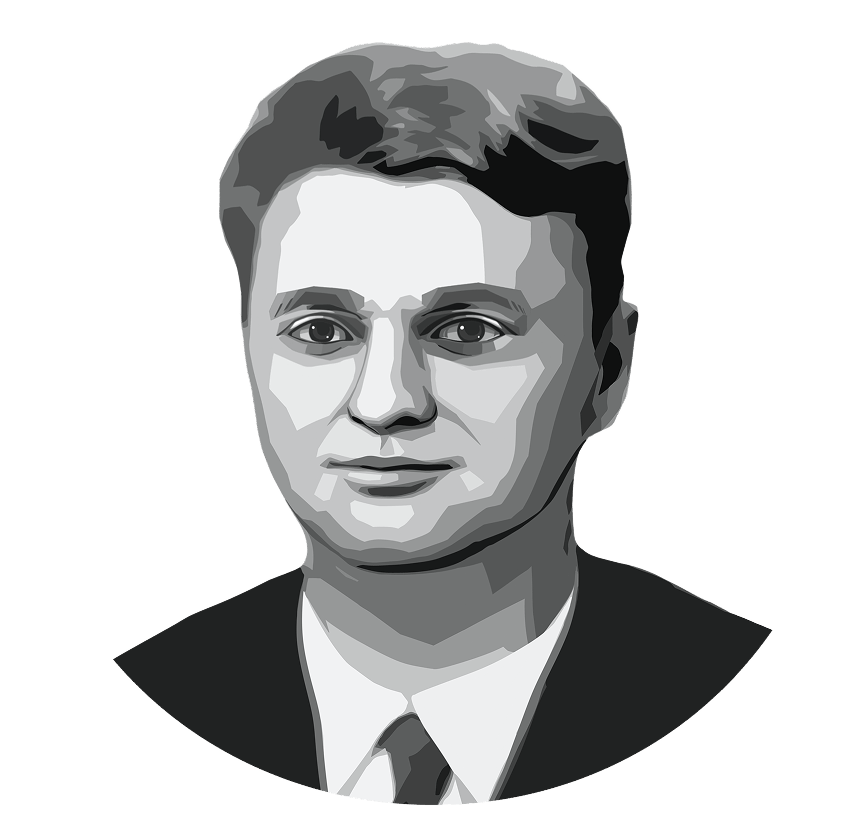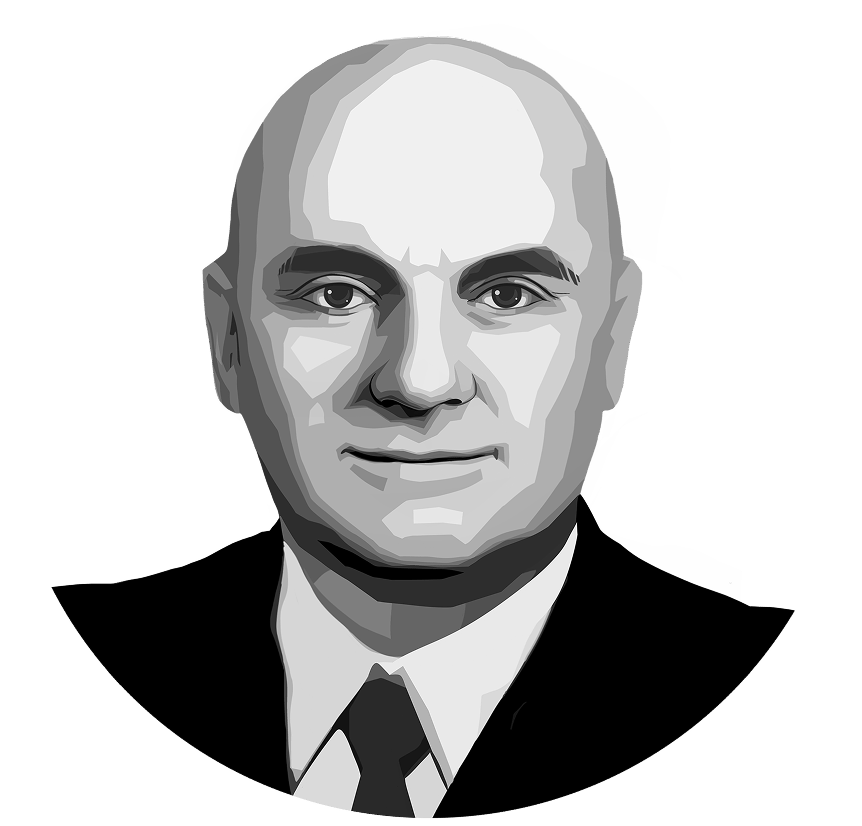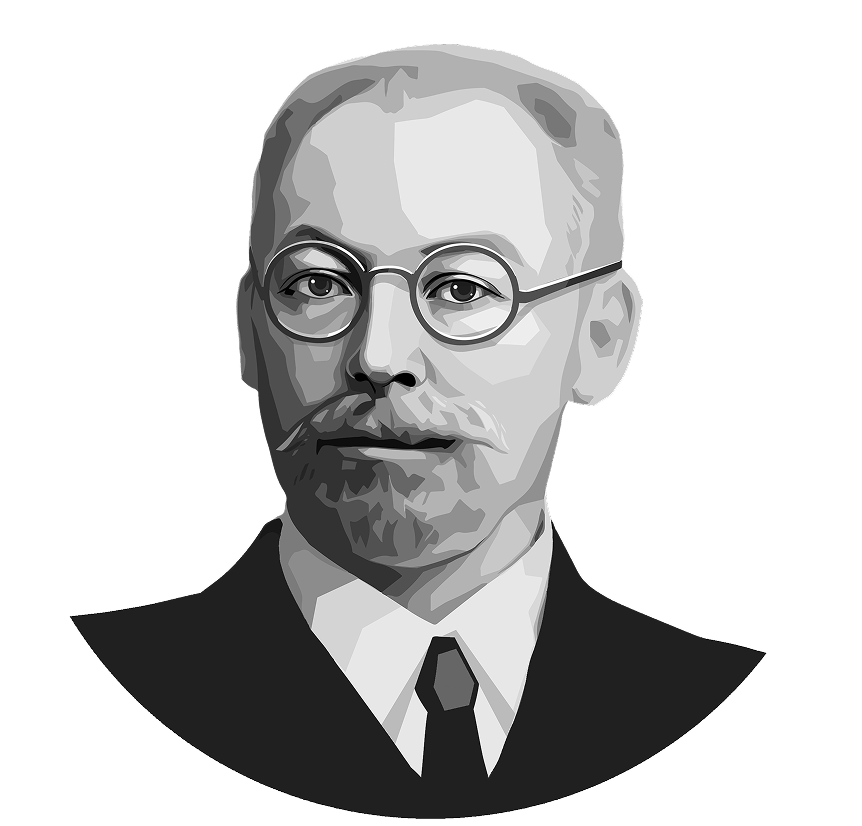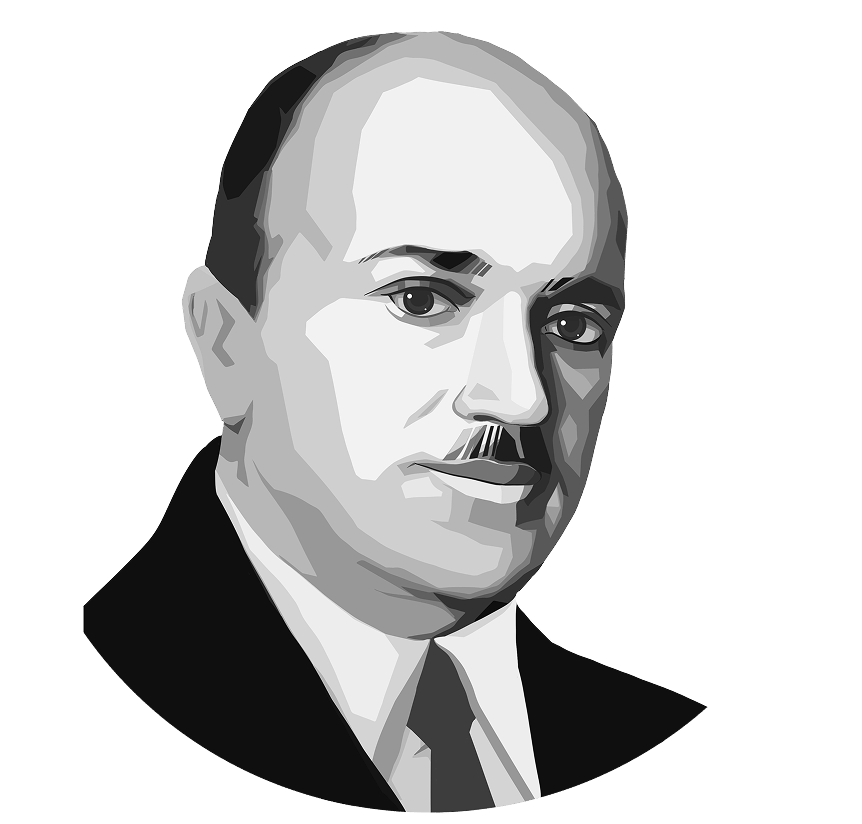Кирилл Иванович Щёлкин
Имя Кирилла Ивановича Щёлкина до сих пор окружено завесой тайны. И недаром, ведь именно он стоял у пульта запуска первого советского атомного заряда 29 августа 1949 года, а в документах Семипалатинского полигона доныне значится: «За изделие № ____ отвечает К. И. Щёлкин».
Биография Кирилла Ивановича Щёлкина
Родился будущий первый научный руководитель и главный конструктор ядерного центра «Челябинск-70» (Снежинск, c 1992 года — Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина» — прим. ред.), трижды Герой Социалистического Труда, 17 мая 1911 года в Тифлисе.
Пережил раннюю смерть отца‑землемера, помогал матери‑учительнице, окончив школу в крымском Карасубазаре и, подрабатывая кузнецом и конюхом, поступил на физико‑технический факультет Симферопольского педагогического института — в ту же альма‑матер, что пятью годами раньше выпустила Игоря Курчатова.Уже в студенческие годы Щёлкин дневальными сменами обслуживал метеостанцию, а ночами писал работы о молниевых разрядах в подземных карстах Крыма. За лучшую выпускную оценку ему вручили брюки — роскошь для 1932 года.

© Борис Клипиницер / ТАСС
Рядовой доброволец и превосходный ученый
Науке он не изменил ни на миг. Молодой лаборант Института химической физики АН СССР в Ленинграде за восемь лет успел защитить кандидатскую («Экспериментальные условия возникновения детонации в газовых смесях» — прим. ред.) и почти завершил докторскую, когда грянула война. Добившись снятия брони, комсомолец Кирилл ушел рядовым добровольцем. С фронта его отозвали в январе 1942‑го для работ по авиации. Но солдатские привычки остались с Щёлкиным навсегда: «Взрыв должен сработать без осечки, как солдат в атаке», — любил повторять он студентам.
Докторскую диссертацию «Быстрое горение и спиновая детонация газов» Кирилл Иванович защитил в ноябре 1946 года, а уже в марте 1947‑го Игорь Курчатов и Юлий Харитон вызвали его в только что созданное КБ‑11. По характеристике Харитона, «он был человеком исключительным, превосходным ученым и организатором, изумительно разбирался в людях». Щёлкин составил «первый список» из 70 молодых физиков и инженеров, решив, что академические величины склонны спорить, а не делать дело. Даже Сталин, в частной беседе весной 1948‑го, вынужден был согласиться с его выводом.
Подчиненных Щёлкин встречал вопросом: «Желаете ли посвятить свою жизнь науке?» — и сразу же расшифровывал перспективы: «Атомная бомба — боеприпас, которому положено взрываться… А всякий взрыв проходит рождение, рост, старение и смерть, только у нас это случается за микросекунды. Запишем эти мгновения — и бомба в кармане». Слова эти — не красноречие: под руководством Щёлкина газодинамические лаборатории КБ‑11 впервые в СССР регистрировали кинопленкой траекторию ударной волны в экспериментальных камерах, а системы автоматики подрыва он заставлял «щелкать» миллион раз, прежде чем доверял им ядерный заряд.
«Россия делает сама»
Утро 29 августа 1949 года стало кульминацией пятилетнего «атомного марафона». Щёлкин последним вышел из башни над плутониевой сферой, опломбировал вход, повернул ключ инициирующей схемы и произнес в микрофон команду: «Пуск». Через мгновение, вспоминая школьное противопоставление РДС американскому МКР («Манхэттен» — прим. ред.), он предложил название «Россия делает сама» — и аббревиатура РДС стала легендой полигонов. Величие мгновения оценили коллеги: на следующий день Юлий Харитон в докладе Берии отметил, что «основная заслуга кратчайших сроков и высокого технического уровня первой бомбы принадлежит Кириллу Ивановичу».
Дальше события понеслись со скоростью лавины. РДС‑2, РДС‑3, переход от плутония к урану, термоядерный заряд 12 августа 1953 года — и третья Звезда Героя. В 1955‑м правительство решает строить второй ядерный центр на Урале. Щёлкин, назначенный научным руководителем НИИ‑1011, настаивает: нельзя размещать производство «мегатонн» в индустриальном Челябинске — ученые должны жить в «месте, куда поедут не из‑под палки, а ради красоты и свободы тайги». Позже академик Евгений Аврорин, вспоминая первые годы Снежинска, скажет: «Щёлкин дал центру такой начальный импульс, что он работает и сегодня… „Школа Щёлкина“ — это навсегда». История подтвердит эти слова: уже к 1960‑му на зауральской площадке развивались одновременно гидридные, радиационные и нейтронные программы.
Характер «солдата‑ученого» приводил Щёлкина и к конфликтам. На заседании Совмина в 1955 году Никита Хрущёв, услышав отказ строить заводы в черте областного центра, обозвал ученого «кадром, который считает себя умнее всех». Однако через год, убедившись в темпах стройки, на объект все же не приехал — возможно, чтобы не встречаться с принципиальным оппонентом. А в 1958‑м в письме на имя Секретариата ЦК сам Щёлкин предупреждал о проблемах в научных институтах Минсредмаша. Критика дорого ему стоила: в апреле 1960‑го ученого освободили от всех должностей «по состоянию здоровья» и вернули в Москву.
Наследие Кирилла Щёлкина
Последние восемь лет жизни Щёлкин читал курс турбулентного горения в МФТИ. Снимал скромную квартиру, никогда не надевал все награды одновременно. Однажды друзья разыграли его на партийном съезде: сначала упрекнули за отсутствие звезд, а назавтра, когда он явился при полном параде, обвинили в хвастовстве. Снимок того дня — единственный, где видны три «Героя». Умер ученый 8 ноября 1968 года — так же внезапно, как и Курчатов.
Сегодня о Кирилле Щёлкине напоминают памятники в Снежинске и Белогорске, бюст в Тбилиси, мемориальная доска в Сарове, статьи и документы «Росатома» — но прежде всего «школа дерзких экспериментов», которую он завещал, требуя проверять теорию «миллионом включений». Научный термин «зона турбулентного пламени по Щёлкину» встречается в современных диссертациях столь же часто, как «спиновая детонация» в руководствах по безопасности газовых труб. Еще в середине пятидесятых его формула скорости турбулентного пламени заставила пересмотреть классический подход Чепмена — Жуге. Ныне она входит в мировые учебники по физической газодинамике.
Три звезды Щёлкина — не счет подвигам, а мерка благодарности страны за то, что «если бы мы опоздали на год‑полтора, — сказал Сталин, вручая награды, — наверное, испытали бы атомную бомбу на себе». Этика ответственности Щёлкина, как и созданные им лаборатории, пережила эпоху и хранит актуальность: без внутренней честности, требовательности к результату и смелости мысли не существует ни великой науки, ни подлинной безопасности.