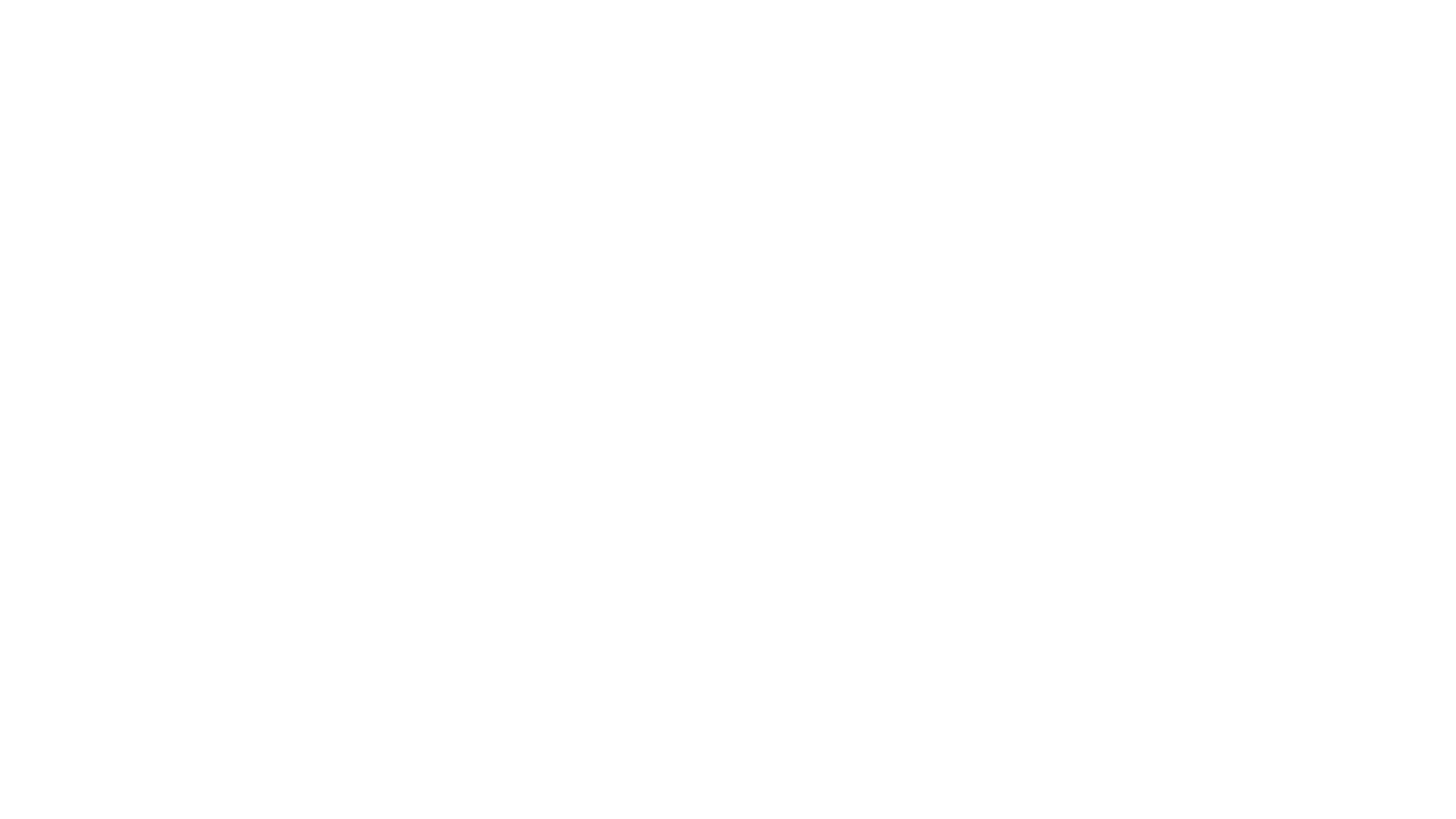«Стал бы машинистом»
МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ
МИХАИЛ
ПИОТРОВСКИЙ
ПИОТРОВСКИЙ
«Стал бы машинистом»
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА — В СПЕЦПРОЕКТЕ ТАСС К 20-ЛЕТИЮ РЖД
I. О символе движения, панораме Пясецкого, мостах культуры и амбарном замке
— Принято считать, что искусство, живопись, скульптура — это всегда движение. Вечное движение вперед. Кто, по-вашему, наиболее динамичный художник, Михаил Борисович?
— Наверное, Ван Гог. Даже видно, как он машет кистью…
Хотя на самом деле все сложнее. Живопись сама по себе не слишком динамична. Попадая в музей, она вступает в диалог с пространством, зрителями, другими картинами. Тогда возникает движение, люди ходят, полотна смотрят, друг на друга, воздух идет. Можно строить разные маршруты, понимаете?
Буквально перед вашим приходом обсуждали, как на картине выглядит взгляд… Знаменитый «Портрет ученого» Рембрандта, который к нам вдруг поворачивается, — это и есть динамика в музее. Когда эта картина висит, допустим, у вас дома…
Хотя на самом деле все сложнее. Живопись сама по себе не слишком динамична. Попадая в музей, она вступает в диалог с пространством, зрителями, другими картинами. Тогда возникает движение, люди ходят, полотна смотрят, друг на друга, воздух идет. Можно строить разные маршруты, понимаете?
Буквально перед вашим приходом обсуждали, как на картине выглядит взгляд… Знаменитый «Портрет ученого» Рембрандта, который к нам вдруг поворачивается, — это и есть динамика в музее. Когда эта картина висит, допустим, у вас дома…
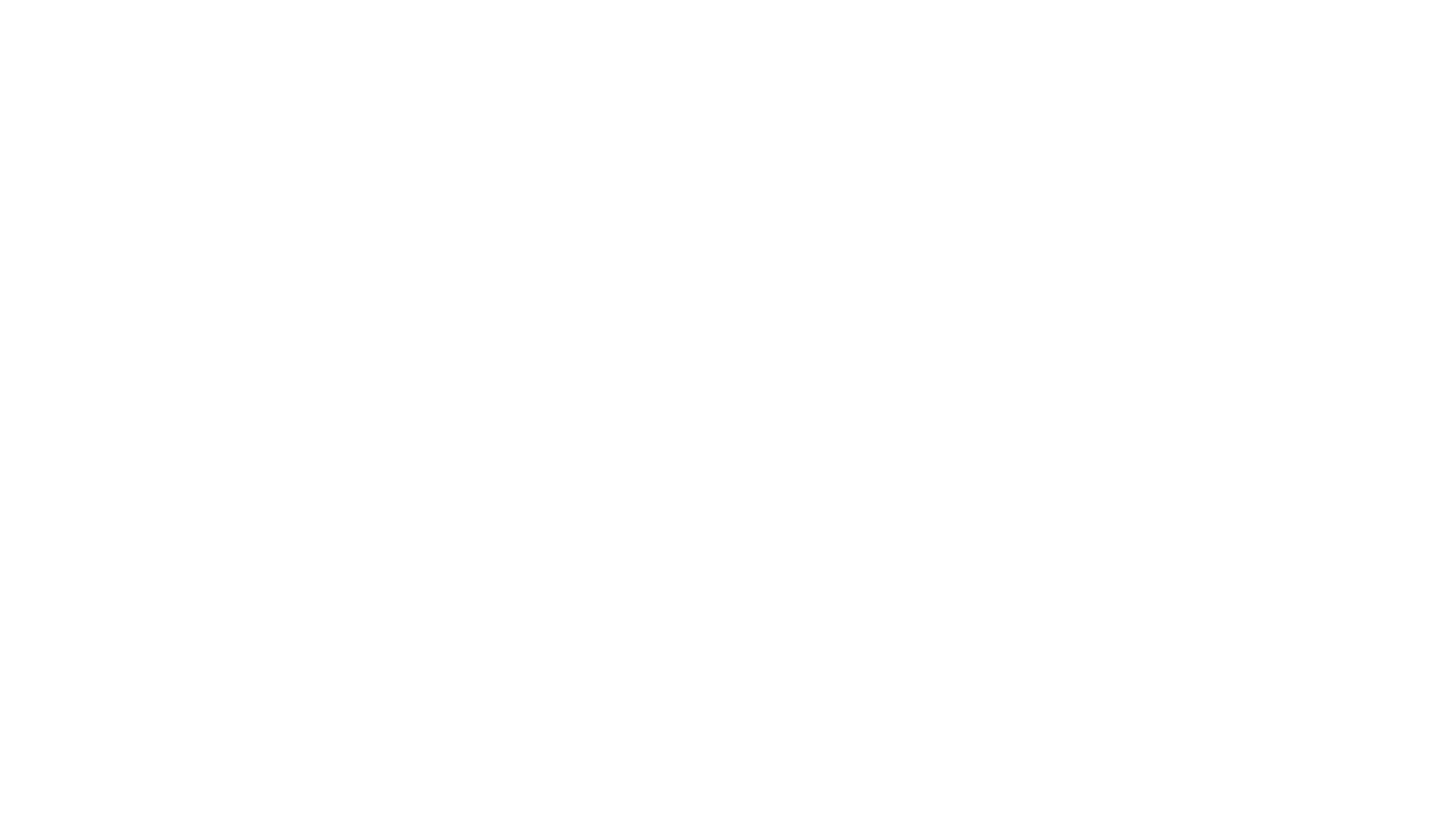
— Смелое предположение…
— Вы смотрите, и нет динамики. Человек на портрете как бы все время неподвижен. А когда уходите из музейного зала, вдруг замечаете: он повернулся за вами, смотрит вслед. Вот так.
Это одна из самых известных наших работ.
Это одна из самых известных наших работ.
— А у вас дома кто висит?
— Репродукция «Блудного сына». Тоже Рембрандта.
— Почему она?
— Великое произведение. Кроме того, воспоминания об инсталляции, которую Александр Николаевич Сокуров делал на основе этой картины в Венеции.
Поэтому она напоминает, скорее, о нашей акции, чем о самом «Блудном сыне».
Поэтому она напоминает, скорее, о нашей акции, чем о самом «Блудном сыне».
— Если продолжить аналогию с движением: паровоз — тепловоз — электровоз можно назвать его символами. Много ли в Эрмитаже произведений, связанных с дорогой?
— Знаете, нет. Символ движения, согласен, образ красивый, но в действительности паровозы на картинах встречаются редко. Да и в жизни их почти не осталось. Теперь они совершенно иные.
Нам лишь кажется, что техника может быть символом. В Мексике, в Паленке, есть знаменитое изображение захороненного человека, немножко скрюченного. Считалось, будто изображен космонавт. В момент, когда появилось толкование, в космос летали именно в таком положении, с поджатыми коленями. Все давно изменилось, поэтому сегодня подобная версия отпадает.
Разумеется, это не отменяет связи движения с искусством. Оно может находить свое историческое отражение, усиливаться со временем.
Нам лишь кажется, что техника может быть символом. В Мексике, в Паленке, есть знаменитое изображение захороненного человека, немножко скрюченного. Считалось, будто изображен космонавт. В момент, когда появилось толкование, в космос летали именно в таком положении, с поджатыми коленями. Все давно изменилось, поэтому сегодня подобная версия отпадает.
Разумеется, это не отменяет связи движения с искусством. Оно может находить свое историческое отражение, усиливаться со временем.
— Напомню, в 2004 году вы подписали с первым президентом РЖД Геннадием Фадеевым соглашение о сотрудничестве, одним из пунктов которого была реставрация акварели «Транссибирская магистраль».
— Там нет никакого локомотива.
— Но есть движение.
— Это другое дело. Речь о знаменитой панораме Павла Пясецкого. Действительно, замечательная работа.
Однажды мы ее выставляли. Понятно, не оригинал. По-моему, в Германии проходила большая железнодорожная выставка. В окнах поезда появлялось изображение, оно как бы плыло там, а вагон потряхивало, словно при движении по рельсам.
Однажды мы ее выставляли. Понятно, не оригинал. По-моему, в Германии проходила большая железнодорожная выставка. В окнах поезда появлялось изображение, оно как бы плыло там, а вагон потряхивало, словно при движении по рельсам.
— Собственно, так изначально и задумывалось. Это гигантское полотно, боюсь соврать, длиной 900 с чем-то метров впервые показывалось в Париже в 1900 году на Всемирной выставке. Ровно, как вы говорили. Окна купе, трясущийся вагон… Пясецкий получил тогда золотую медаль.
— Теперь так выставлять панораму, конечно, уже нельзя, но для этого и делалась копия… Когда нас спросили: «А можно сделать?» Мы ответили: «Ну только маленький фрагмент, больше нет».
Копия панорамы теперь часто путешествует, участвует в разных выставках, посвященных дороге…
Копия панорамы теперь часто путешествует, участвует в разных выставках, посвященных дороге…
— С картиной все хорошо?
— С ней и был полный порядок.
— Это ведь листы акварели, которые лежали, скрученные в рулоны?
— Они всегда лежали и будут лежать в рулонах. Это их нормальное положение. Акварели нельзя часто раскрывать и показывать. Максимум — ненадолго выставить в витрине.
— Геннадий Фадеев даже хотел широким жестом выкупить «Транссибирскую магистраль». Говорил, что готов потратить 100 миллионов долларов. Мол, имеет на это право.
— Нет, панорама не продается. Никто ни за какие деньги ее не отдал бы. Да и не стоит она ста миллионов.
А реставрировать мы сами можем… Повторяю, важнее, что была сделана копия, позволяющая теперь показывать это произведение, демонстрировать на железнодорожных выставках и в России, и по всему миру. Очень важно для повышения доступности искусства использовать новейшие технологии.
А реставрировать мы сами можем… Повторяю, важнее, что была сделана копия, позволяющая теперь показывать это произведение, демонстрировать на железнодорожных выставках и в России, и по всему миру. Очень важно для повышения доступности искусства использовать новейшие технологии.
— А оригинал лежит в хранилище?
— Конечно. А копию можно крутить и возить сколько угодно. С ней ничего не сотворится.
У РЖД была идея проехаться с копией «Транссибирской магистрали» по всем станциям, которые в свое время посетил Пясецкий, и показать людям, как все выглядело 100 лет тому назад. Уж не знаю, насколько это окончательно получилось, как откликнулось.
Недавно вот был «Книжный поезд» из Петербурга во Владивосток. Писатели проехали через всю страну. По пути делали художественные представления, посвященные книге.
У поезда есть особое качество — неспешность…
У РЖД была идея проехаться с копией «Транссибирской магистрали» по всем станциям, которые в свое время посетил Пясецкий, и показать людям, как все выглядело 100 лет тому назад. Уж не знаю, насколько это окончательно получилось, как откликнулось.
Недавно вот был «Книжный поезд» из Петербурга во Владивосток. Писатели проехали через всю страну. По пути делали художественные представления, посвященные книге.
У поезда есть особое качество — неспешность…
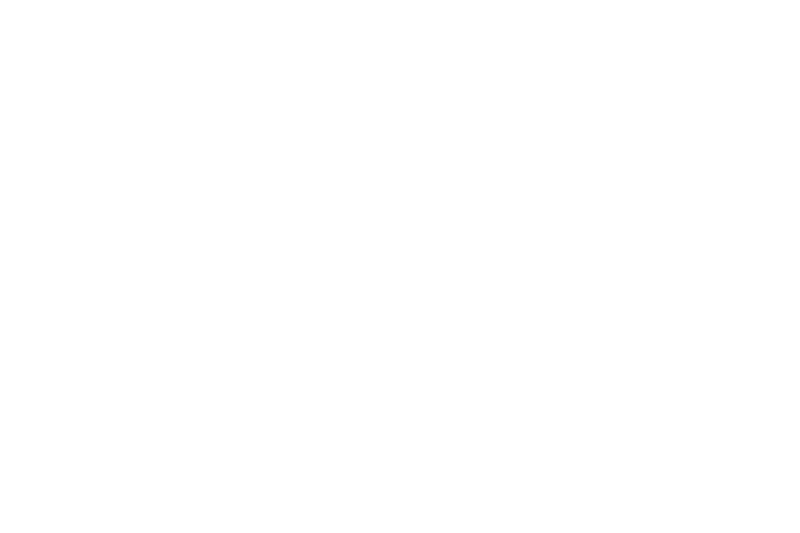
— А оригинал лежит в хранилище?
— Конечно. А копию можно крутить и возить сколько угодно. С ней ничего не сотворится.
У РЖД была идея проехаться с копией «Транссибирской магистрали» по всем станциям, которые в свое время посетил Пясецкий, и показать людям, как все выглядело 100 лет тому назад. Уж не знаю, насколько это окончательно получилось, как откликнулось.
Недавно вот был «Книжный поезд» из Петербурга во Владивосток. Писатели проехали через всю страну. По пути делали художественные представления, посвященные книге.
У поезда есть особое качество — неспешность…
У РЖД была идея проехаться с копией «Транссибирской магистрали» по всем станциям, которые в свое время посетил Пясецкий, и показать людям, как все выглядело 100 лет тому назад. Уж не знаю, насколько это окончательно получилось, как откликнулось.
Недавно вот был «Книжный поезд» из Петербурга во Владивосток. Писатели проехали через всю страну. По пути делали художественные представления, посвященные книге.
У поезда есть особое качество — неспешность…

— Ценная вещь по нынешним временам.
— Можно останавливаться на станциях, устраивать мероприятия — и все это в одном течении.
— Ценная вещь по нынешним временам.
— Можно останавливаться на станциях, устраивать мероприятия — и все это в одном течении.
— Помните, Солженицын вот так возвращался из эмиграции?
— Александр Исаевич был человеком старорежимным, придерживался русской эстетики XIX века. Проехал из конца в конец, делал остановки, выходил. Так и Николай II когда-то путешествовал. Той же дорогой.
— Он ездил, когда еще был наследником престола.
— Это даже важнее, чем царем. Увидел всю Россию. Как и Солженицын.
— Один стал править, второй решил ее обустроить… Вы себе роскошь подобных длительных вояжей можете позволить?
— К сожалению, нет. Сейчас уже нет. По Транссибу — точно. Времени на это не хватит.
— А раньше?
— Когда был студентом, любил добираться в экспедицию по Средней Азии на поезде.
“
Во-первых, дешевле, во-вторых, путешествие — едешь 2−3 дня. Помню, и одна из первых моих поездок за границу, в Италию, тоже была поездом. Роскошь смены колесных пар, долгого стояния на границе. Эти длинные-предлинные железнодорожные истории… Настоящее приключение. И впечатлений — вагон.
— Это какие годы?
— Лет 30 тому назад. Еще в советское время. Вроде бы давно, а запомнилось хорошо.
— Вагон был спальный?
— Нет, конечно. Обычный купейный. Сотрудник Академии наук — какой там СВ, откуда?!
Мне пришлось путешествовать и общими вагонами, и на третьих, багажных полках купе. Даже в товарняках ездил, когда был молодой. Исколесил, можно сказать, всю Россию. И поездами, и автостопом на машине — тут уж как придется. На вокзалах ночевал.
По Средней Азии много путешествовал. Денег на билеты не было, для студента все дорого, любая копейка на счету. Поэтому мы так поступали: отправляли какую-то сумму в конечную точку маршрута, чтобы наверняка домой вернуться и добираться обратно по-человечески. Гарантия своего рода. А туда ехали поездом, автомобилем, даже пешком шли.
По Средней Азии много путешествовал. Денег на билеты не было, для студента все дорого, любая копейка на счету. Поэтому мы так поступали: отправляли какую-то сумму в конечную точку маршрута, чтобы наверняка домой вернуться и добираться обратно по-человечески. Гарантия своего рода. А туда ехали поездом, автомобилем, даже пешком шли.
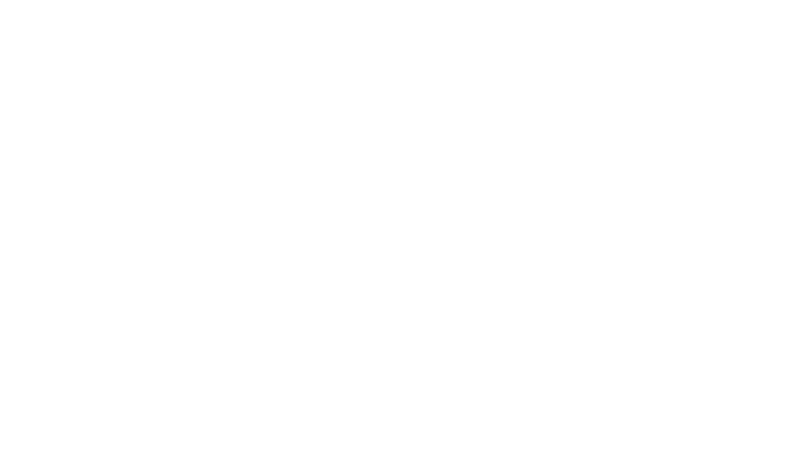
— Вагон был спальный?
— Нет, конечно. Обычный купейный. Сотрудник Академии наук — какой там СВ, откуда?!
Мне пришлось путешествовать и общими вагонами, и на третьих, багажных полках купе. Даже в товарняках ездил, когда был молодой. Исколесил, можно сказать, всю Россию. И поездами, и автостопом на машине — тут уж как придется. На вокзалах ночевал.
По Средней Азии много путешествовал. Денег на билеты не было, для студента все дорого, любая копейка на счету. Поэтому мы так поступали: отправляли какую-то сумму в конечную точку маршрута, чтобы наверняка домой вернуться и добираться обратно по-человечески. Гарантия своего рода. А туда ехали поездом, автомобилем, даже пешком шли.
Мне пришлось путешествовать и общими вагонами, и на третьих, багажных полках купе. Даже в товарняках ездил, когда был молодой. Исколесил, можно сказать, всю Россию. И поездами, и автостопом на машине — тут уж как придется. На вокзалах ночевал.
По Средней Азии много путешествовал. Денег на билеты не было, для студента все дорого, любая копейка на счету. Поэтому мы так поступали: отправляли какую-то сумму в конечную точку маршрута, чтобы наверняка домой вернуться и добираться обратно по-человечески. Гарантия своего рода. А туда ехали поездом, автомобилем, даже пешком шли.
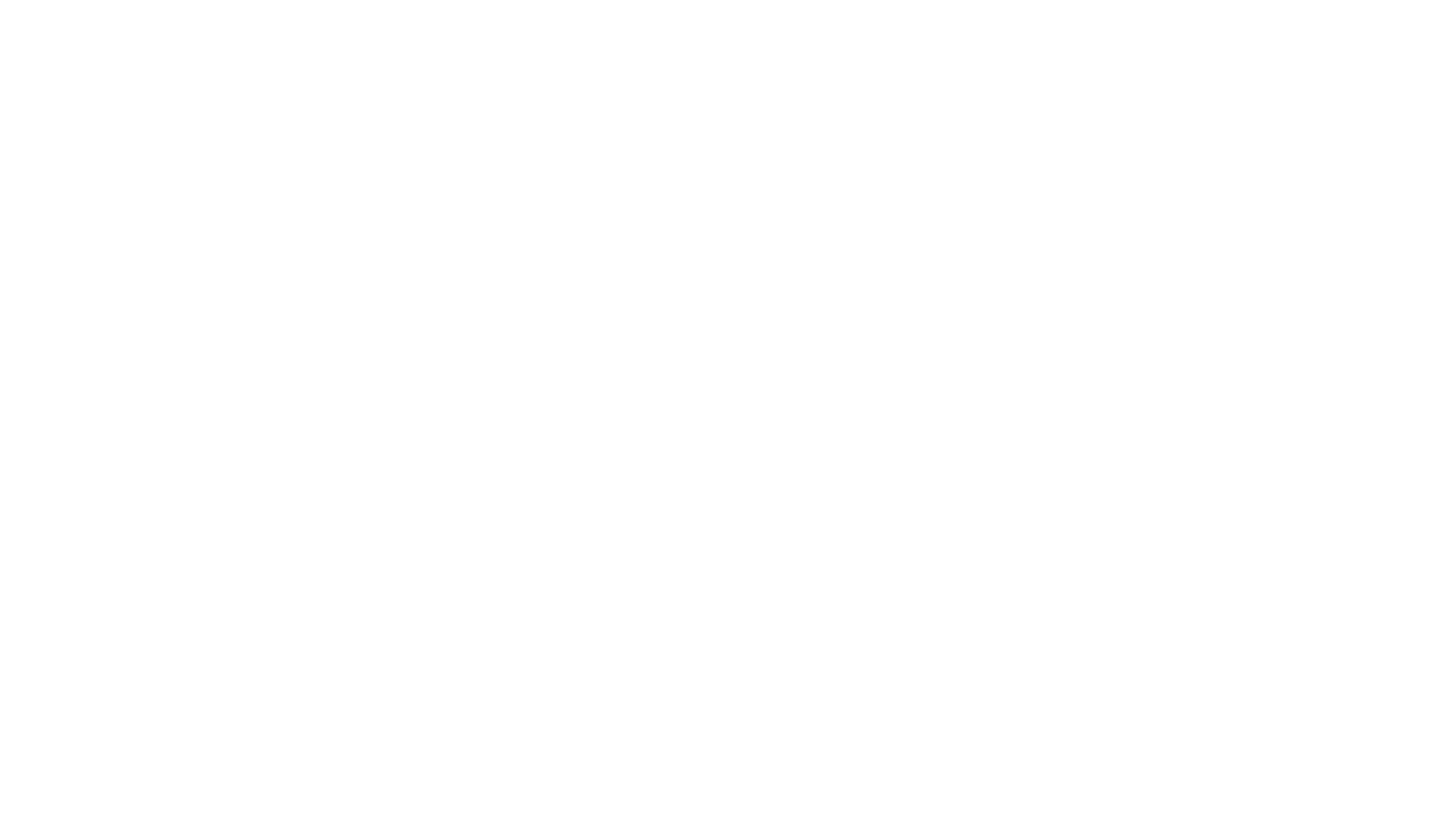
— Были приключения в дороге?
— Честно говоря, ничего особо не вспоминается… Моя вечная проблема: просят — расскажи, а у меня никаких баек в запасе. Нормальная жизнь…
— Были приключения в дороге?
— Честно говоря, ничего особо не вспоминается… Моя вечная проблема: просят — расскажи, а у меня никаких баек в запасе. Нормальная жизнь…
— Недавно я терзал Владислава Третьяка, расспрашивал, часто ли он опаздывал на поезда. За вами водится такой грешок?
— Поскольку мне трудно соблюдать пунктуальность, стараюсь везде быть заранее. И на вокзал приезжаю с запасом. Теперь поезда подают поздно, поэтому приходится ждать. Вот вчера стоял в Москве на перроне. Приехал раньше, чем подали состав. Правда, пауза была недолгой.
— Вы предпочитаете «Сапсан», самолет или ночную «Красную стрелу»?
— После ковида — «Сапсан».
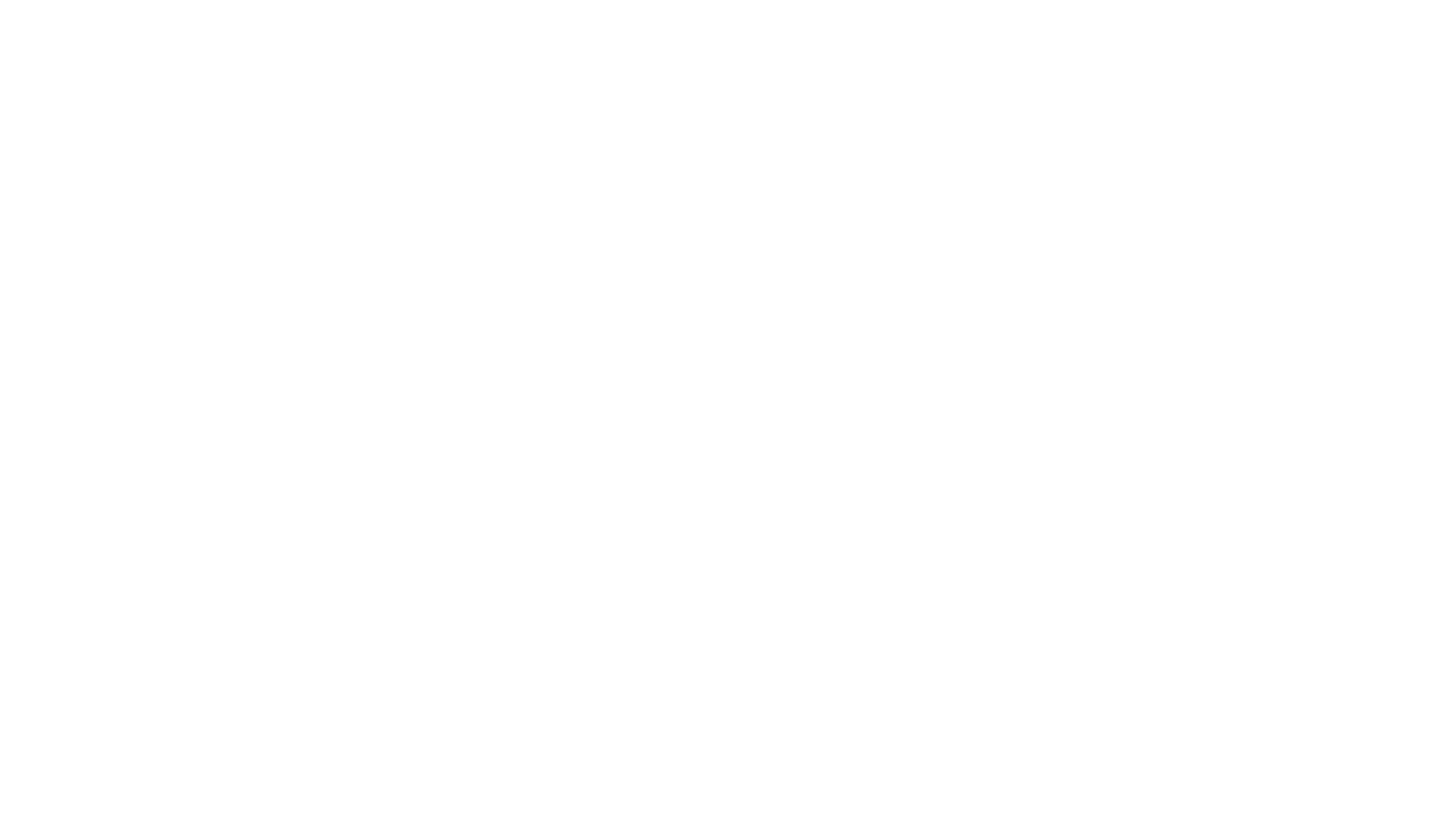
— Какая взаимосвязь?
— В ночном поезде риск заражения все-таки выше. В дневном чувствую себя спокойнее. И идет он быстрее. Поэтому сейчас чаще выбираю «Сапсан». Хотя когда-то «Стрела» была вершиной. Там замечательно, хорошо.
Впрочем, иногда езжу в Москву и ночными поездами, если, допустим, заседание в 10:30 утра. Тогда ехать «Красной стрелой» удобнее, чем ранним «Сапсаном».
Впрочем, иногда езжу в Москву и ночными поездами, если, допустим, заседание в 10:30 утра. Тогда ехать «Красной стрелой» удобнее, чем ранним «Сапсаном».
— Нормально спите в поезде?
— На самом деле и до «Сапсанов» очень много и часто курсировал между двумя столицами. Ночью прекрасно отдыхаю, ничто не мешает. Ну а в сидячем с собой должна быть книжка, которую могу читать. Это важное дело.
— По-прежнему выбираете бумагу?
— По-разному. Читаю и в электронном виде, и бумажном. Одинаково воспринимаю и то, и другое, хотя, пожалуй, газеты удобнее просматривать на компьютере, а вот книгу все же лучше держать в руках.
— Как-то вы сказали, что во времена, когда взрывают мосты, мост культуры должен стоять последним.
— Я оказался неправ. Их тоже не щадят.
— Вы говорили это еще до февраля 2022 года.
— И даже до весны 2014-го. Давно и постоянно повторял, когда все нагнеталось. Обращался в первую очередь к политикам, а не к деятелям культуры. В ответ слышал: «Чудесно, да-да, конечно». Помню, даже в Германии опубликовали мое интервью, вынесли в заголовок фразу «Последние мосты».
Это самое важное и трудновосстановимое.
Это самое важное и трудновосстановимое.
“
Но когда пришло время, мосты культуры стали взрывать первыми. Того, что мы называем отменой русской культуры, не случилось, но разрыв культурных связей, увы, произошел, и это очень печально. Многие из них изорваны. Придется восстанавливать.
А мосты бывают разные. Есть, например, сохранившийся наполовину в Авиньоне. В Мостаре мост разрушили полностью. Его воссоздали заново.
А в Петербурге мосты разводят. Если нужно, скажем, устроить революцию или, наоборот, не дать ей состояться, пролеты поднимают. Их не надо взрывать. Развели, чтобы потом легко свести. Уничтоженный мост очень трудно восстановить.
Уповаю на петербургский пример. Испытал сильное огорчение, когда стали разрушать культурные мосты, хотя тем самым они усиливают родившийся у меня образ.
А в Петербурге мосты разводят. Если нужно, скажем, устроить революцию или, наоборот, не дать ей состояться, пролеты поднимают. Их не надо взрывать. Развели, чтобы потом легко свести. Уничтоженный мост очень трудно восстановить.
Уповаю на петербургский пример. Испытал сильное огорчение, когда стали разрушать культурные мосты, хотя тем самым они усиливают родившийся у меня образ.
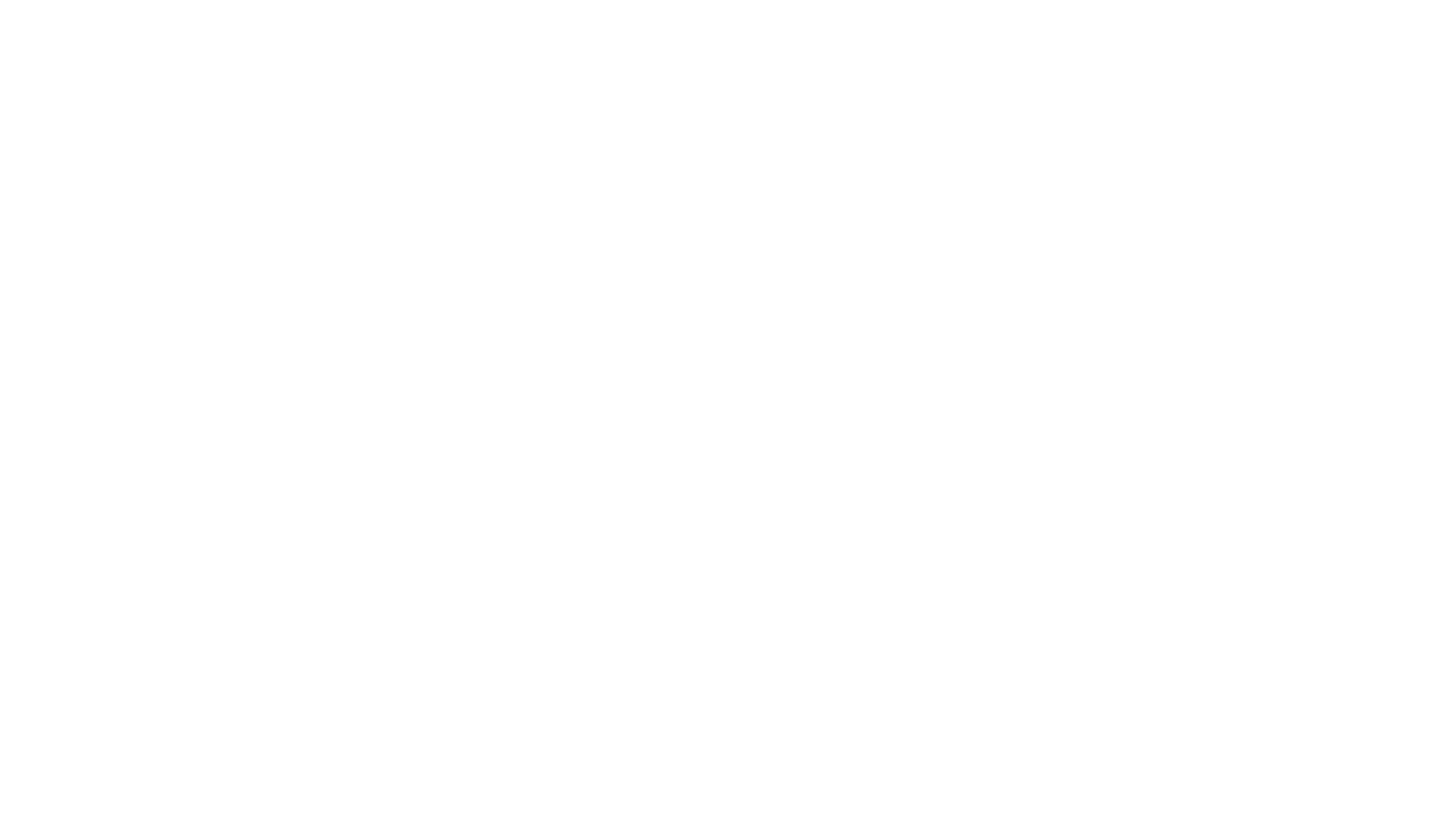
— Действительно, все выглядит афористично, но, по существу, проблема серьезнейшая.
— Понимаете, сейчас в ходу такая схема: мир расходится по разным лагерям, в воздухе висит идея отмены культуры, запущен процесс отказа от общения.
Но это ошибка: культура призвана объединять людей. Отменять ее — значит убивать и музеи. В последнее время нередко слышу разговоры, мол, те или иные предметы создавались не для музея, отдавайте их обратно, не трогайте нашу культуру. Скажем, не используйте древние египетские изображения. Дескать, вы в них ничего не понимаете. Или не берите китайские узоры для европейских модных домов. Там заложен совсем иной смысл, вам недоступный. Ну и так далее.
На самом деле, все очень серьезно. И кончиться может плохо. Единственный владелец собственной культуры может ее уничтожить. Она же его. Вдруг завтра разонравится хозяину?
Это уже проделывали мусульманские террористы в Сирии. Мы много занимались Пальмирой, где уничтожили бесценные скульптуры, которые этим исламистам показались ненужными, чуждыми. Взяли — и взорвали, сломали. А что? Формально имеют право, если это только их наследие. Так и в Советском Союзе когда-то уничтожали церкви. Протестанты сжигали католические иконы, а еще раньше христиане, когда их вера стала доминирующей, избавлялись от античных памятников… Очень опасная дорога.
Но это ошибка: культура призвана объединять людей. Отменять ее — значит убивать и музеи. В последнее время нередко слышу разговоры, мол, те или иные предметы создавались не для музея, отдавайте их обратно, не трогайте нашу культуру. Скажем, не используйте древние египетские изображения. Дескать, вы в них ничего не понимаете. Или не берите китайские узоры для европейских модных домов. Там заложен совсем иной смысл, вам недоступный. Ну и так далее.
На самом деле, все очень серьезно. И кончиться может плохо. Единственный владелец собственной культуры может ее уничтожить. Она же его. Вдруг завтра разонравится хозяину?
Это уже проделывали мусульманские террористы в Сирии. Мы много занимались Пальмирой, где уничтожили бесценные скульптуры, которые этим исламистам показались ненужными, чуждыми. Взяли — и взорвали, сломали. А что? Формально имеют право, если это только их наследие. Так и в Советском Союзе когда-то уничтожали церкви. Протестанты сжигали католические иконы, а еще раньше христиане, когда их вера стала доминирующей, избавлялись от античных памятников… Очень опасная дорога.
— Правильно понимаю, что на заграничные выставочные центры Эрмитажа повешен амбарный замок?
— Мы заморозили работу, поскольку продолжать стало небезопасно. В тихой, мирной Голландии люди кидали камни и бутылки в окна. Персоналу было трудно работать. Не могли представить, что такой прием встретим именно в Голландии. Во Франции, кстати, подобного пока не произошло. Посмотрим, что будет дальше.
Наши центры ведь называются спутниками, а те могут менять орбиту, даже выключаться на время, как это делает Илон Маск со своими летательными аппаратами.
Вот и у нас так. Был спутник в Лас-Вегасе. Летал, летал, а потом мы поняли, что дорого, затратно, и прекратили его работу. Но изначальную миссию выполнили, просветили мировую столицу игорного бизнеса.
Наш спутник в Лондоне тоже прекрасно работал. Потом изменились политические обстоятельства — перестали давать на него деньги. А мы делаем только на чужие, свои никогда не тратим.
Теперь вот голландцы сожалеют, что их центр заморожен. Он был очень успешен. Люди плакали. Но держались долго, надо признать. Почти два года не закрывались. Сейчас поменяли название. Заставили.
Был «Эрмитаж-Амстердам». Теперь — H’Art museum Amsterdam, «Сердце Амстердама». На самом деле, хороший маркетинг, наш спутник был одним из наиболее посещаемых мест на культурной карте Амстердама, отсюда усиленное желание сохранить память.
Хотя и в России мы сталкивались с огромным количеством политических противников из-за примитивного подхода к культуре как к собственности. Мол, что это вы будете показывать наши ценности иностранцам? Абсолютно не понимая, когда рассказываем о себе, показываем, какие мы, — это в известном смысле культурное наступление. Оно важно как демонстрация, подтверждение себя в качестве нации.
Наши центры ведь называются спутниками, а те могут менять орбиту, даже выключаться на время, как это делает Илон Маск со своими летательными аппаратами.
Вот и у нас так. Был спутник в Лас-Вегасе. Летал, летал, а потом мы поняли, что дорого, затратно, и прекратили его работу. Но изначальную миссию выполнили, просветили мировую столицу игорного бизнеса.
Наш спутник в Лондоне тоже прекрасно работал. Потом изменились политические обстоятельства — перестали давать на него деньги. А мы делаем только на чужие, свои никогда не тратим.
Теперь вот голландцы сожалеют, что их центр заморожен. Он был очень успешен. Люди плакали. Но держались долго, надо признать. Почти два года не закрывались. Сейчас поменяли название. Заставили.
Был «Эрмитаж-Амстердам». Теперь — H’Art museum Amsterdam, «Сердце Амстердама». На самом деле, хороший маркетинг, наш спутник был одним из наиболее посещаемых мест на культурной карте Амстердама, отсюда усиленное желание сохранить память.
Хотя и в России мы сталкивались с огромным количеством политических противников из-за примитивного подхода к культуре как к собственности. Мол, что это вы будете показывать наши ценности иностранцам? Абсолютно не понимая, когда рассказываем о себе, показываем, какие мы, — это в известном смысле культурное наступление. Оно важно как демонстрация, подтверждение себя в качестве нации.
II. О новых орбитах, логистических задачах, рисках, трех эвакуациях и выборе профессии
— Зато теперь вы вывели свои спутники на российскую орбиту.
— Они и раньше были. Прежде работали три, теперь стало пять. Мы сосредотачиваемся. Выборг, Екатеринбург, Казань, Омск и Владивосток. Сейчас готовится Оренбург.
Что касается зарубежных центров — посмотрим. Дело не только в замке на дверях. Невозможно ничего ввозить. Страховки не работают, транспорт не ходит, деньги не переводятся, поэтому физически нет возможности организовывать выставки, а постоянной экспозиции за границей у нас никогда и не было.
Что касается зарубежных центров — посмотрим. Дело не только в замке на дверях. Невозможно ничего ввозить. Страховки не работают, транспорт не ходит, деньги не переводятся, поэтому физически нет возможности организовывать выставки, а постоянной экспозиции за границей у нас никогда и не было.
Эрмитажем выработаны несколько четких принципов, которые не сразу усваиваются партнерами в силу их нестандартности. Первое: за пределы России мы вывозим только выставки. Второе: не тратим ни единой своей копейки. В это не все могут поверить, но это так.
Многие сейчас сдвинуты на теме денег. Недавно была статья о центре «Эрмитаж-Амстердам» и истории его создания. Для открытия перестроили дом престарелых, на что потратили огромные деньги — 40 миллионов евро. В публикации делался вывод, что, конечно, заплатили русские. Хотя Россия не потратила ничего — все расходы взяла на себя принимающая сторона.
Так, кстати, и внутри страны со всеми нашими центрами. В Екатеринбурге платит Екатеринбург, в Омске — Омск. Эрмитаж ничего не тратит. Правда, с российских партнеров не берем денег за концепцию.
Многие сейчас сдвинуты на теме денег. Недавно была статья о центре «Эрмитаж-Амстердам» и истории его создания. Для открытия перестроили дом престарелых, на что потратили огромные деньги — 40 миллионов евро. В публикации делался вывод, что, конечно, заплатили русские. Хотя Россия не потратила ничего — все расходы взяла на себя принимающая сторона.
Так, кстати, и внутри страны со всеми нашими центрами. В Екатеринбурге платит Екатеринбург, в Омске — Омск. Эрмитаж ничего не тратит. Правда, с российских партнеров не берем денег за концепцию.
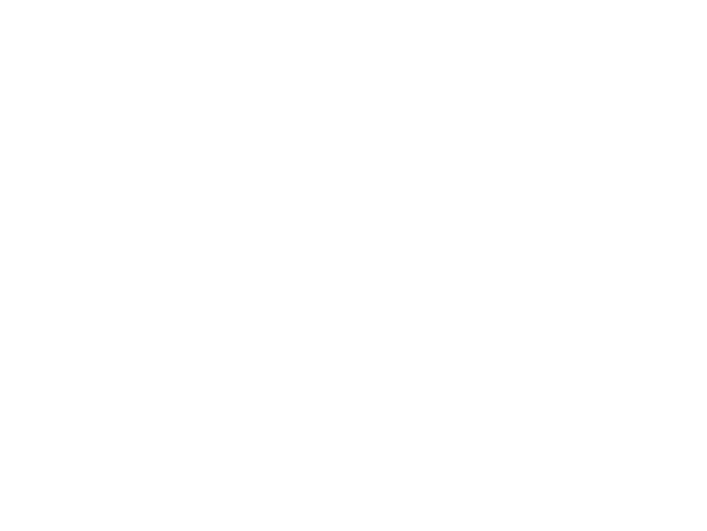
— Зато теперь вы вывели свои спутники на российскую орбиту.
— Они и раньше были. Прежде работали три, теперь стало пять. Мы сосредотачиваемся. Выборг, Екатеринбург, Казань, Омск и Владивосток. Сейчас готовится Оренбург.
Что касается зарубежных центров — посмотрим. Дело не только в замке на дверях. Невозможно ничего ввозить. Страховки не работают, транспорт не ходит, деньги не переводятся, поэтому физически нет возможности организовывать выставки, а постоянной экспозиции за границей у нас никогда и не было.
Эрмитажем выработаны несколько четких принципов, которые не сразу усваиваются партнерами в силу их нестандартности. Первое: за пределы России мы вывозим только выставки. Второе: не тратим ни единой своей копейки. В это не все могут поверить, но это так.
Многие сейчас сдвинуты на теме денег. Недавно была статья о центре «Эрмитаж-Амстердам» и истории его создания. Для открытия перестроили дом престарелых, на что потратили огромные деньги — 40 миллионов евро. В публикации делался вывод, что, конечно, заплатили русские. Хотя Россия не потратила ничего — все расходы взяла на себя принимающая сторона.
Так, кстати, и внутри страны со всеми нашими центрами. В Екатеринбурге платит Екатеринбург, в Омске — Омск. Эрмитаж ничего не тратит. Правда, с российских партнеров не берем денег за концепцию.
Что касается зарубежных центров — посмотрим. Дело не только в замке на дверях. Невозможно ничего ввозить. Страховки не работают, транспорт не ходит, деньги не переводятся, поэтому физически нет возможности организовывать выставки, а постоянной экспозиции за границей у нас никогда и не было.
Эрмитажем выработаны несколько четких принципов, которые не сразу усваиваются партнерами в силу их нестандартности. Первое: за пределы России мы вывозим только выставки. Второе: не тратим ни единой своей копейки. В это не все могут поверить, но это так.
Многие сейчас сдвинуты на теме денег. Недавно была статья о центре «Эрмитаж-Амстердам» и истории его создания. Для открытия перестроили дом престарелых, на что потратили огромные деньги — 40 миллионов евро. В публикации делался вывод, что, конечно, заплатили русские. Хотя Россия не потратила ничего — все расходы взяла на себя принимающая сторона.
Так, кстати, и внутри страны со всеми нашими центрами. В Екатеринбурге платит Екатеринбург, в Омске — Омск. Эрмитаж ничего не тратит. Правда, с российских партнеров не берем денег за концепцию.
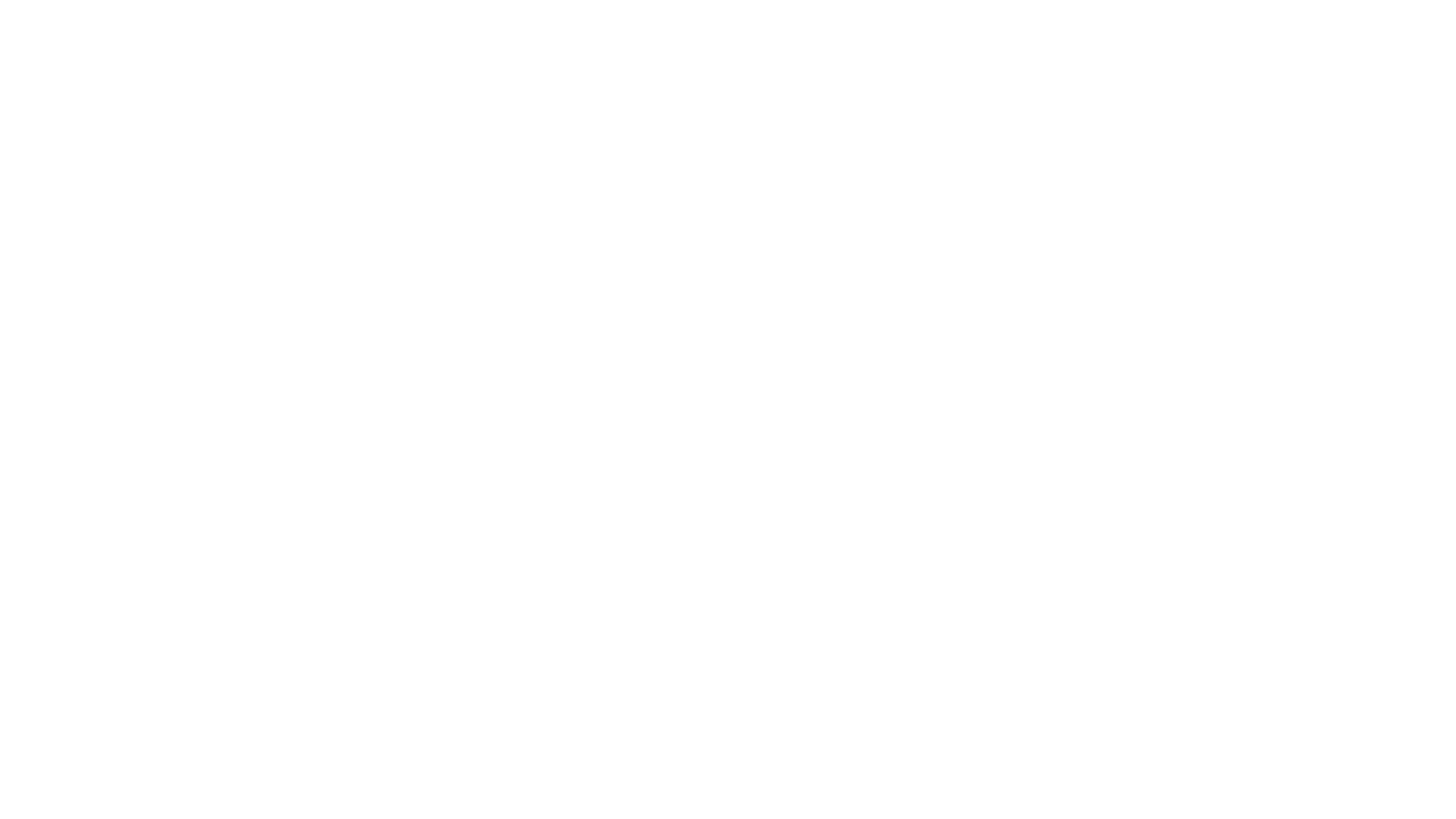
— А транспортировка?
— Забота тех, кто принимает. Если не готовы оплачивать, значит, ничего не будет. Не навязываемся никому, нас должны очень хотеть и любить.
— А транспортировка?
— Забота тех, кто принимает. Если не готовы оплачивать, значит, ничего не будет. Не навязываемся никому, нас должны очень хотеть и любить.
— Каким способом перевозите музейные экспонаты?
— По-разному: и автомобильным транспортом, и авиацией, и по железной дороге.
Кстати, всегда считалось, что последний вариант — самый легкий, лучший. В отличие от самолета вибрация в поезде не очень сильная. Но когда нам понадобилось перевести большую картину из Хабаровска… В местном художественном музее находится полотно, которое почти век назад было отдано из Эрмитажа, а тут мы решили свозить его на выставку в Италию. С Дальнего Востока отправили просто — большим самолетом. Потом небо закрыли, самолеты перестали летать. Мы попытались воспользоваться железной дорогой. Оказалось очень трудно поместить картину в вагон и гарантировать шесть дней ее охраны.
Кстати, всегда считалось, что последний вариант — самый легкий, лучший. В отличие от самолета вибрация в поезде не очень сильная. Но когда нам понадобилось перевести большую картину из Хабаровска… В местном художественном музее находится полотно, которое почти век назад было отдано из Эрмитажа, а тут мы решили свозить его на выставку в Италию. С Дальнего Востока отправили просто — большим самолетом. Потом небо закрыли, самолеты перестали летать. Мы попытались воспользоваться железной дорогой. Оказалось очень трудно поместить картину в вагон и гарантировать шесть дней ее охраны.
— Дорого?
— Логистически сложная задача: найти контейнер, обеспечить безопасность… Деньги-то были, проблема в ином: ответственность. На вокзалах не отлажена постоянная система контроля за особыми ценностями, как в аэропортах. Хотя мне казалось, и на железной дороге с этим тоже все в порядке.
Сейчас главная сложность с нашими центрами в России — транспорт. Расстояния большие. По Европе возили автомобилями. И то всегда объезжали через Финляндию, потом морем в Германию, чтобы никакой Польши, Литвы и всего остального не было по пути. Это не политическое решение — там попросту опасно на дорогах.
Сейчас главная сложность с нашими центрами в России — транспорт. Расстояния большие. По Европе возили автомобилями. И то всегда объезжали через Финляндию, потом морем в Германию, чтобы никакой Польши, Литвы и всего остального не было по пути. Это не политическое решение — там попросту опасно на дорогах.
— В смысле?
— Без охраны возникали риски. Ну последние лет 20.
И по нашим бескрайним дорогам тоже особо не покатаешься через тайгу, сами понимаете. Тем более, у нас безумная система гласности. Надо объявлять тендер на страховку, чтобы все везде могли прочитать, что, когда и куда везут, какова ценность груза…
И по нашим бескрайним дорогам тоже особо не покатаешься через тайгу, сами понимаете. Тем более, у нас безумная система гласности. Надо объявлять тендер на страховку, чтобы все везде могли прочитать, что, когда и куда везут, какова ценность груза…
— Ну да, приходите, гости, ждем.
— Именно!
Сейчас у нас начинается много выставок — Дальний Восток, вся Сибирь… Будем серьезно говорить с РЖД, чтобы гарантировать сохранность. Страховка безумно дорогая из-за расстояния перевозок…
Наш принцип остается прежним: платить должна принимающая сторона. Но ей же нужно откуда-то взять деньги. Вот и будем вести переговоры, как обеспечить функционирование системы.
Художественных активностей у нас очень много. Новые выставочные центры Эрмитажа создаются в разных частях страны. Калининград, Владивосток, юг России. Нужно все организовать, отладить…
Сейчас у нас начинается много выставок — Дальний Восток, вся Сибирь… Будем серьезно говорить с РЖД, чтобы гарантировать сохранность. Страховка безумно дорогая из-за расстояния перевозок…
Наш принцип остается прежним: платить должна принимающая сторона. Но ей же нужно откуда-то взять деньги. Вот и будем вести переговоры, как обеспечить функционирование системы.
Художественных активностей у нас очень много. Новые выставочные центры Эрмитажа создаются в разных частях страны. Калининград, Владивосток, юг России. Нужно все организовать, отладить…
— Да, в Калининград по железке… Риски!
— А в Севастополь разве нет?
— К слову, что вы забирали тогда на выставку из Хабаровска?
— Картину Гарофало. Был такой известный феррарский художник. Изобразил Христа, раздающего хлеба… Наш центр работал в Ферраре, потом переехал в Венецию, но он тоже сейчас заморожен.
Гарофало есть у нас в Петербурге. Одну картину, повторяю, в 20-е годы прошлого века отдали в Хабаровск. Она большая. С дверь моего кабинета или даже выше. Никуда не помещалась, вот на обратном пути и возникли трудности с транспортировкой.
Гарофало есть у нас в Петербурге. Одну картину, повторяю, в 20-е годы прошлого века отдали в Хабаровск. Она большая. С дверь моего кабинета или даже выше. Никуда не помещалась, вот на обратном пути и возникли трудности с транспортировкой.
— Читал интервью вашей сотрудницы, которая рассказывала о трех эвакуациях эрмитажной коллекции в разные периоды. Первая — 1812 год. Тогда баржами увезли на север наиболее ценное. Потом — 1914-й, начало Первой мировой. Самое дорогое отправили в Кремль, в Оружейную палату. Что-то еще вывезли в 1917-м после Февральской революции. Снова в Москву. Третья эвакуация — в 1941-м, на Урал, в Свердловск. Ее начали готовить загодя. Собрали три эшелона.
— Ушли два, третий остался. Блокада перекрыла дорогу.
— Любопытно, что люди заранее задумывались об отъезде. Во время гражданской войны директором Эрмитажа был…
— …в 1917-м — Толстой.
— Да, а в 1941-м — уже Орбели.
— Кстати, тогда использовали часть ящиков из 1917 года. Они и сейчас есть. Если что, еще раз их возьмем. Очень хорошая упаковка.
— Когда везли в 1914 году, уронили на Невском проспекте коробку с фарфором, и разбилась… Даже не разбилась, а треснула лишь одна чашка. Насколько грамотно упаковывали!
— Ну это мы умеем. Саркофаг с мощами Александра Невского в Лавру вот перевезли. Все идеально.
— Во время первой Отечественной войны была какая-то очень засекреченная операция.
— Не сказал бы. Все есть в списках. Другое дело: подробно не расписывали, что в какой коробке. Но списки есть. И «Блудный сын» тогда ехал. В стоячем положении везли две картины. Обычно накручивают рулоны, а эти ездили стоя.
А в Первую мировую войну ужас состоял в том, что коллекцию перевезли в Москву, потом случилась революция, столица тоже перекочевала в Белокаменную, московские культурные деятели типа Троцкого стали говорить: «У нас тут столица. Какого черта отправлять в Петроград? Пусть все остается в Москве».
А в Первую мировую войну ужас состоял в том, что коллекцию перевезли в Москву, потом случилась революция, столица тоже перекочевала в Белокаменную, московские культурные деятели типа Троцкого стали говорить: «У нас тут столица. Какого черта отправлять в Петроград? Пусть все остается в Москве».
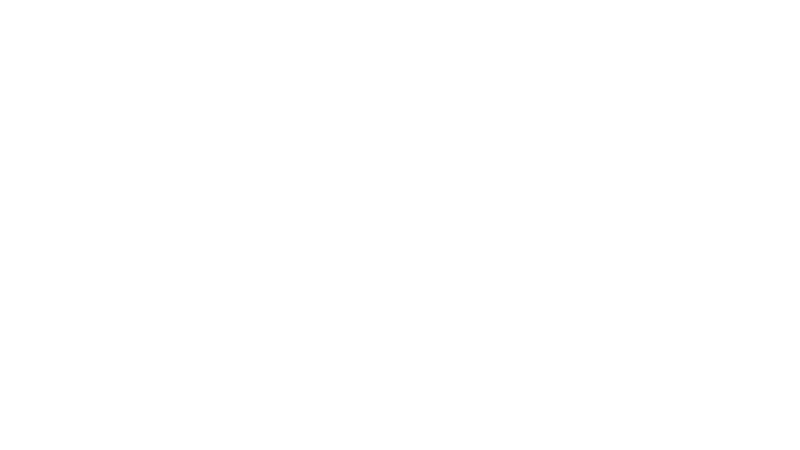
— Во время первой Отечественной войны была какая-то очень засекреченная операция.
— Не сказал бы. Все есть в списках. Другое дело: подробно не расписывали, что в какой коробке. Но списки есть. И «Блудный сын» тогда ехал. В стоячем положении везли две картины. Обычно накручивают рулоны, а эти ездили стоя.
А в Первую мировую войну ужас состоял в том, что коллекцию перевезли в Москву, потом случилась революция, столица тоже перекочевала в Белокаменную, московские культурные деятели типа Троцкого стали говорить: «У нас тут столица. Какого черта отправлять в Петроград? Пусть все остается в Москве».
А в Первую мировую войну ужас состоял в том, что коллекцию перевезли в Москву, потом случилась революция, столица тоже перекочевала в Белокаменную, московские культурные деятели типа Троцкого стали говорить: «У нас тут столица. Какого черта отправлять в Петроград? Пусть все остается в Москве».
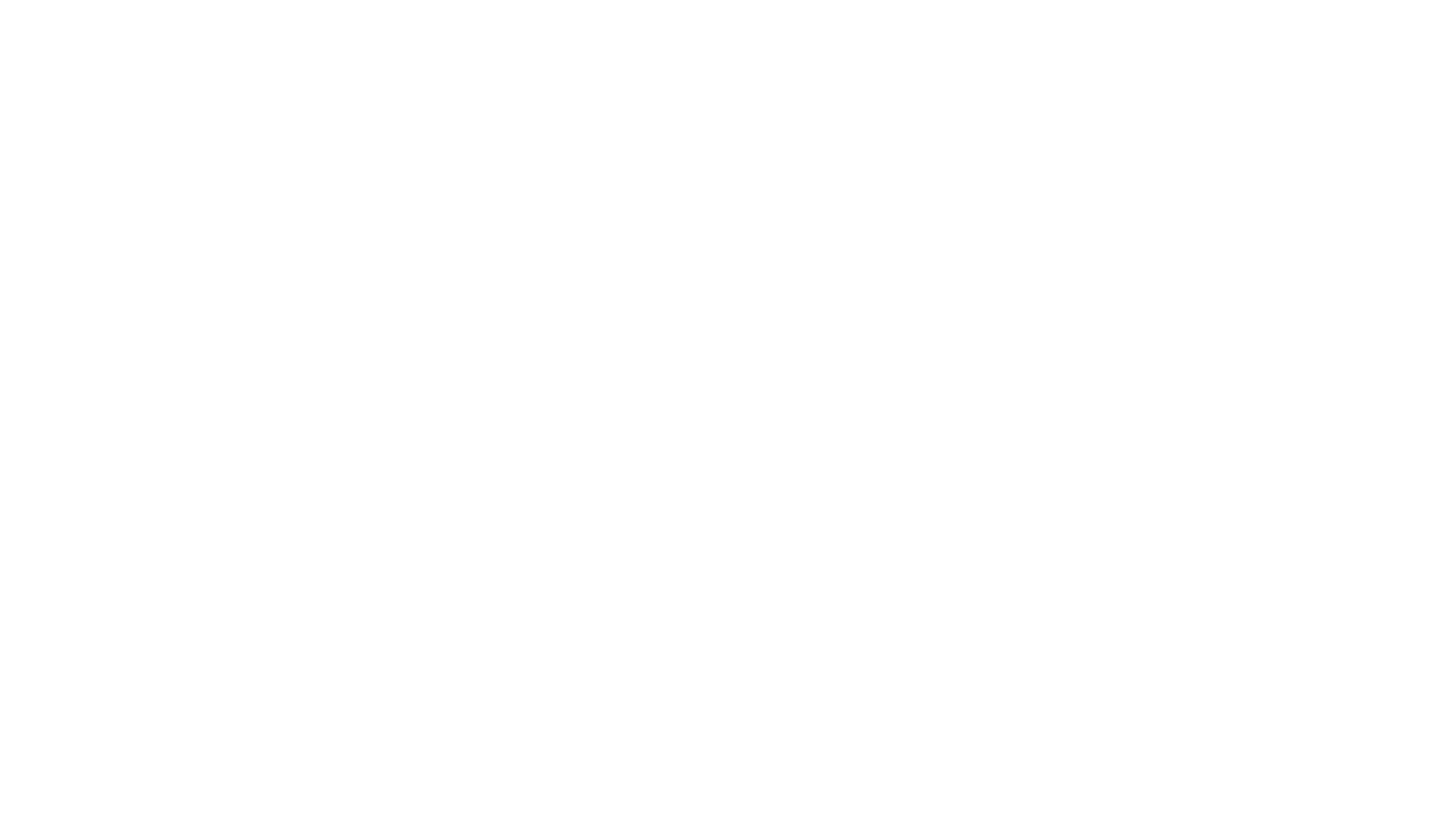
— Вроде бы Луначарский очень симпатизировал Эрмитажу.
— Все они симпатизировали до определенного предела, но нужно было объединять усилия и биться за возвращение ценностей. Боролись все: и Луначарский, и Эрмитаж, и петербургские большевики. Даже те, кто не очень ценили классику и были сторонниками авангарда, понимали: надо все вернуть домой.
— Вроде бы Луначарский очень симпатизировал Эрмитажу.
— Все они симпатизировали до определенного предела, но нужно было объединять усилия и биться за возвращение ценностей. Боролись все: и Луначарский, и Эрмитаж, и петербургские большевики. Даже те, кто не очень ценили классику и были сторонниками авангарда, понимали: надо все вернуть домой.
— Эрмитаж пустой стоял? Ленин только в 1920-м разрешил вернуть ценности из Москвы.
— Не пустой, но закрытый. Вывезли самые главные вещи. Потом вышло специальное решение Совнаркома, почему сразу Ленин? У нас все либо он, либо Сталин. Это упрощает систему. Понимаете?
— Собственно, не на это хочу акцентировать. В 1920 году подписали мирный договор с Финляндией, и опасность, что соседи придут без приглашения, отпала. Теперь Финляндия — уже не дружественная страна, а член блока НАТО. Вопрос очевиден: есть ли у вас план Б?
— Во-первых, все упаковочные материалы, которые использовались для эвакуации Эрмитажа в 1941 году, давно готовы, и никто ни на какие отношения с соседями внимания не обращает. Обычная практика: музей всегда думает и о войне, и о спасении ценностей. У нас все-все-все-все наготове. Есть планы и Б, и В, и Д. Но рассказывать о них вам не буду. Нынче время другое. Все немножко сложнее. Но ничего, переживем.
— Сложнее из-за прозрачности? Не утаишь?
— Из-за паникеров и провокаторов. Вот сегодня какой-то игрушечный квадрокоптер ударился о стену Эрмитажа. Упал на землю. Мы не сбивали, хотя обычно делаем это. Повторяю, маленький, игрушечный. Тут же в интернете написали: в Эрмитаж врезался дрон-беспилотник. Такой сегодня мир: все преувеличивается, все неверно, все наполовину вранье…
— Еще одна тема про РЖД. В Сестрорецке, где находится ваше хранилище, собираются уводить железную дорогу под землю, в тоннель.
— Это Сестрорецкое направление Старой Деревни. Очень интересная ситуация: идет дорога, а там целый Эрмитаж — площадь, открытые залы… Уже все есть. И библиотека строится с другой стороны железной дороги. Мы все ждали, что, может, она уйдет под землю. Никак не уходила.
— Вроде бы собираются.
— Дай бог. У нас в проекте есть переход, и сложность его проектирования была в том, чтобы решить, кому принадлежит воздух.
Это тщательно выясняли. Сначала вроде договорились с РЖД, и нам разрешали строить. Потом стали высчитывать, до какого уровня воздух принадлежит железной дороге, а дальше — нет. Оказалось, есть какой-то предел.
Спроектировали переход, чтобы он был выше, как утверждают наши инженеры, установленных РЖД границ.
Это тщательно выясняли. Сначала вроде договорились с РЖД, и нам разрешали строить. Потом стали высчитывать, до какого уровня воздух принадлежит железной дороге, а дальше — нет. Оказалось, есть какой-то предел.
Спроектировали переход, чтобы он был выше, как утверждают наши инженеры, установленных РЖД границ.
— А каким воздухом распоряжается РЖД? Сколько метров вверх?
— Выяснилось, не очень много. Чтобы двухэтажный поезд прошел.
— Нызенько-нызенько?
— Ну да, нызенько. Это стало для меня открытием, сначала я договаривался с РЖД, и мы обо всем условились. Потом потребовались еще согласования.
— Какие, кстати, сейчас у вас отношения с РЖД? Когда вам работалось наиболее комфортно?
— Всегда. При Фадееве, разумеется, было прекрасное взаимопонимание, при Якунине. И сейчас, при Белозерове. И с руководством, и билеты нам дают. Надо же ездить постоянно.
— Любопытно, отель «Эрмитаж», который является вашей официальной гостиницей, предоставляет дополнительные опции пассажирам «Сапсана». Если они проедут в бизнес-купе, им сделают апгрейд, повысят категорию номера.
— Хорошее дело. Правда, гостиница «Эрмитаж» нам не принадлежит. Мы разрешаем использовать наше имя и символику, эрмитажные интерьеры повторять в оформлении. Есть специальный договор: отель выступает представителем музея среди тех, кто в нем живет. Официальное право гостиницы.
— Последний вопрос. Если гипотетически, умозрительно предположить, что судьба забросила бы вас на железную дорогу, кем предпочли бы стать: машинистом, путейцем, проводником?
— Конечно, интересно попробовать себя в роли машиниста.
— Бывали когда-нибудь в кабине?
— Да, ребенком ездил на паровозах. И это было здорово. В кабинах современных электровозов тоже оказывался. Интересно, красиво: ведут огромную махину, она подчиняется воле человека… Но, честно говоря, впечатления от паровоза остались ярче, помню все до сих пор… Интересно было посмотреть вблизи на паровоз.
“
В детстве у меня с папой даже существовала своего рода церемония. Если ехали в Москву, приходили на вокзал заранее, стояли и специально ждали, когда к «Красной стреле» прицепят электровоз. Процедура завораживала. Теперь такого уже нет, составы приходят сразу в сборке, вместе с локомотивом. А раньше было много всяких ритуалов.
Вот и внутри рабочего паровоза я несколько раз побывал. Красиво. А машинист — хорошая, лучшая специальность.